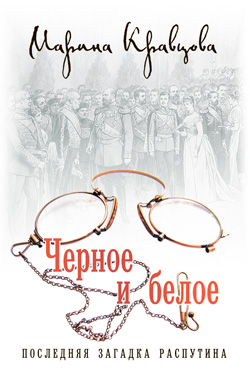
ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ
Я это пережил! Это кажется невозможным,
но сейчас, спустя две недели, я начинаю понимать, что не сойду с ума, не повешусь, не дам сгноить себя на каторге из-за крови бешеного пса! Пусть
я не вижу больше света, душа моя ослепла навсегда и мир затянулся чернотой — но я живу. И даже
знаю, чем наполнить невыносимые дни. Раскрыл
подвернувшийся случайно под руку дневник и… вот
снова пишу в него. Теперь у меня есть цель — я растопчу змею, а там будь что будет…»
Сколько ни закусывай губу, но слезы горя пробьются сквозь сомкнутые ресницы, если им тесно
в душе. И молодой человек беззвучно разрыдался,
резко отодвигая толстую тетрадь в коричневой кожаной обложке. Отброшенное перо запачкало чернилами недописанную страницу…
В дневнике остались пропуски, на белые листы
черными строчками не легла самая черная страница жизни. Писать в дневник о том, что произошло
тогда, было нельзя: сердце запрещало, да и смысла
не было — страшный вечер на всю жизнь врезался
в память Аркадия Максимова.
Этот мартовский вечер терзал тогда их мокрым
запоздалым снегом и весьма неприятным ветром —
Аркашу и друга его Давида Эгейсона. А приятели
и рады были побороться с некстати вернувшейся
зимой, весело скользили в переулках в темноте по
раскисшему снежному месиву — нараспашку, шапки набекрень, и Аркаша, сам едва на ногах державшийся, то и дело ловил под локоть хохочущего Эгей-
сона, рывком помогая ему обрести равновесие.
— Нет, Дэвид, — крутил головой Аркадий, — ты
скоро… тебя скоро… просто в темном углу поймают
и вздуют…
И он прыснул как мальчишка, вспомнив с наслаждением последнюю жареную статейку «Дэвида Э.».
— Э, нет! А ты… что же ты думал! — несмотря
на то, что Эгейсон на ногах едва держался, язык
его работал еще неплохо. — Журналистика, друг
мой — тонкое дело. Виртуозное искусство! Что ваша
литература… да только романчиками со стихами состояние не наживешь, а газета — да… Но искусство
нужно. Ты понимаешь? Я ж не вру, я сочиняю сюжет… Вдохновенно!
Он восторженно икнул.
— Врешь, все ты врешь, всегда врешь… — не слушал Аркаша.
Эгейсон вдруг обиделся:
— Да что ты понимаешь, ты… сыщик! Скажи,
где… где в твоей службе хоть чуток творческого
вдохновения? Шерлок Холмс, пардон! Ну мы это…
куда сейчас? К тебе, что ли?
— Ко мне, — бездумно ответил Аркадий, тащивший приятеля под локоть. И молодые люди, мокрые
от весеннего снега, свернули-таки на освещенный
проспект. В квартиру Максимова ввалились в обнимку, в уютном тепле сразу потеряв последнюю устойчивость. Полусонная Анфиса, впуская барина с гостем,
даже зевок прихлопнула, удивленная, — редко серьезного Аркадия Николаевича можно было узреть в подобном виде. У Аркаши же сладко кружилась голова.
— Надюша! — закричал он на всю квартиру. —
Я вернулся, мой ангел!
Жена не откликнулась.
— Я сейчас, Дэвид!
Эгейсон, проходя в гостиную, пьяно хихикнул:
мальчишеская влюбленность Аркаши Максимова
в собственную жену ужасно смешила его — вроде
не первый год вместе живут. Но Надин ему нравилась, и журналист попытался придать себе светский
вид, насколько позволяло его состояние.
— Надюша, где ты? — слышался из другой комнаты напевный голос Аркадия, показавшийся Эгейсону отвратительно слащавым.
Ожидая мадам Максимову, Давид скучающе
разглаживал усы, когда чей-то крик сорвал его с дивана. Потом послышалось нечто вроде всхлипа. Эгейсон, переступив порог маленькой комнаты, тихо
ахнул и только головой покачал. Надин лежала на
полу — застывшая, без малейшего движения. «Все
как в бульварных романах», — первое, что пришло
в голову «Дэвиду Э.»: мертвенно-бледная женщина в черном, кровь, пистолет в маленькой ручке —
ажурная черная перчатка, черный револьвер… Красиво и страшно. И Аркаша, предсказуемо-горько
рыдающий на коленях перед мертвой женой…
Можно быть талантливым сочинителем и иметь
безошибочный нюх на скандалы, но даже это, вместе взятое, не сделает тебя удачливым журналистом,
живущим (шикарно живущим!) благодарю перу,
если нет влюбленности в работу, собачьей хватки
и внутренней раскованности — ничего запретного,
подавай публике все, чего она жаждет! Дэвид Э. знал
за собой все эти прелестные качества и гордился
своим бойким пером. Да, многие из его шедевров
не совсем верно (мягко говоря) отражали действительность, но главное — читатели получали то, что
хотели. И он, умный журналист, тоже.
Быстрый взгляд карих глаз Эгейсона скользнул
по комнате в поисках чего-либо интересного. Нашел. На столе белела записка с ровными строчками
напечатанных на машинке четких букв. «Дорогой
Аркаша! Прошу никого не винить в моей смерти,
кроме меня самой. Я мечтала найти небесного старца, а попалась в когти дьяволу. Разорвать сети, которыми он меня опутал, возможно, лишь разорвав
нити, связывающие меня с жизнью. Я изменила
тебе — не по своей воле. Прощай и прокляни тот
день, когда я встретилась с ним!»
«Как все знакомо и театрально-пошло, — в первые секунды досадливо пронеслось в голове журналиста, — “нити, связывающие меня с жизнью…”,
“прокляни тот день…” А потом… потом дух захватило от радостного волнения — право слово, словно искра пробежала! Вспомнилось, как жаловался
Аркадий на жену, особу любопытную, вдруг жарко
увлекшуюся популярнейшим старцем Григорием
Распутиным. Так вот оно что! Доувлекалась… Вот
кого она дьяволом называет. У Эгейсона был свой
интерес к этой странной личности. Да еще какой!
— Аркаша, это ж сенсация! — выскочило из него
восторженно, этакой архимедовской «эврикой».
Резким ударом по руке Аркадий заставил приятеля
выронить листок, затем Эгейсон вылетел из комнаты не без помощи Максимова.
— Негодяй! — неслось ему вслед.
Эгейсон перевел дыхание и пошел за своей шляпой туда, где ее оставил. Аркадий быстро перестал
занимать мысли Дэвида Э. Журналист знал, что сегодня ему предстоит бессонная ночь.
Стук колес то и дело встревал в причудливое
мельтешение черно-белых рисунков страшного сна
в больной Аркашиной голове, и поезд тоже становился зловещим персонажем сонной фантазии. Но
горче сна было пробуждение, когда в первые секунды Максимов не мог понять, куда и зачем он едет,
а потом страшной неотвратимостью вновь ударил
неумолимый факт — Надин больше нет. Надин
с дырой в груди лежит в гробу, ее похоронили, похоронили, похоронили, а он сорвался, мчится в Москву, спасаясь от безумия.
На коленях лежала газета. Сенсация — кровавая
драма в лучшем стиле бульварных романов — прекрасная молодая особа стала жертвой негодяя Гришки Распутина… Аркадий тихо возненавидел Эгейсона.
«А ведь ее даже похоронить нельзя было поцерковному», — подумалось с горечью, когда он уже
плелся, моргая от слез, в поисках адреса, выясненного еще в Петербурге. Собственно к церкви, к обрядам ее Максимов был равнодушен, но обожгла
обида: его Наденька — словно хуже иных негодяев,
всю жизнь фарисействующих, отпеваемых, однако,
и погребаемых со всяческими почестями. «Она не
сама. Ее убили… Убили… Убил бес, которого называют святым… Он для них — свой, а мою Надин отвергли после смерти».
Возникший перед юношей нарядный Новодевичий монастырь непрошенно и не вовремя напомнил детство, когда жил Аркаша в Москве, ходил гулять на Новодевичьи пруды, и монастырь, сказочный
и трогательный, казался ему продолжением фантастических няниных историй, всегда веселых, ярких,
счастливых. Сейчас он даже приостановился, пораженный тем, что его разбитое сердце еще способно
возродить в себе отзвук былого теплого, отрадного
чувства. Рука даже сама потянулась перекреститься,
но Аркадий, нахмурившись, быстро заложил руку
за спину. «И угораздило же изверга остановиться
в этих местах…»
Распутин обитал сейчас у кого-то из своих поклонников неподалеку от Новодевичьего монастыря в большом доме белого камня. Аркадий не мог
потом вспомнить, что говорил он швейцару, проводившему его в гостиную. Вдруг стало страшно, и невозможность справиться с волнением напомнила
гимназические годы, когда вот так же трясся он
перед сложным экзаменом. Отворилась дверь… Но,
к удивлению Аркадия, вошедший человек не был
Распутиным.
— Простите, сударь, — вежливо заговорил, представившись, хозяин дома, — дело в том, что к Григорию Ефимовичу ходит очень много посетителей,
не всегда… э-э, с благородными намерениями, и поэтому мне хотелось бы узнать… — Оборвав фразу,
говоривший замер в испуге. До этого с некоторым
недоумением созерцал он осунувшееся, болезненнобледное лицо гостя, растрепанные волосы, темными завитками нелепо прилипшие ко лбу, но вдруг
это бледное лицо исказилось в бешеной (иначе не
скажешь!) злобе и остатки слез в глазах высохли без
следа.
— Я не намерен… вы слышите?.. не намерен!
давать никаких объяснений! Немедленно позовите
сюда этого мужика, который разыгрывает Божьего
посланника… Иначе я сам разыщу его и выволоку за
бороду, где бы он ни таился!
Хозяин ничего не успел ответить на это невозможное заявление, потому что немедленно на крик
Аркадия явился тот, о ком шла речь. |




