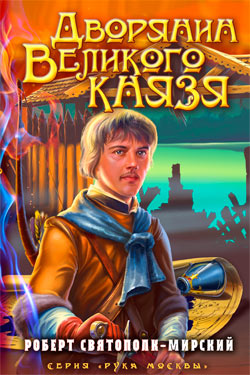
Дворянин Великого Князя
ПРОЛОГ
Падение Великого Новгорода
Великий Новгород пал.
Пал без борьбы и сопротивления, доверчиво распахнув ворота перед князем московским
Иваном Васильевичем, который лицемерно
и коварно обманул новгородцев, заявив, что
пришел к ним с миром. В то, что случилось,
нельзя было поверить, такое могло привидеться лишь в ночном кошмаре, но страшный сон
стал явью, и даже самые буйные крикуны, что
всегда драли глотки на вече, притихли и в домах затаились, боясь казать нос на улицу, где
валялись промерзшие, окостенелые трупы, —
в городе царил мор, что зимой бывает редко,
но тем годом навалилась и эта беда на несчастных новгородцев — морозы стояли лютые, на целый аршин вглубь оледенела земля, да
и боялись хоронить покойников: на всех углах
жгли костры наезжие московские ратники, пили, пели, смеялись среди мертвецов, грабили
потихоньку окрестные дома, останавливали
всякого прохожего, требовали присяги на верность Москве, понуждали крест целовать Великому князю Ивану — крест примерзал к губам — отрывали с кровавой кожей, кричали,
юродствуя: «Вот истинная клятва!» Страшное
время, жуткий час — неужто и вправду, навсегда, на веки вечные, конец пришел батюшке Великому Новгороду — Господи, спаси
и помилуй нас, грешных! Аминь…
Еще в январе, сразу после Рождества Господня, велели московиты очистить двор Ярославов, якобы для своего Великого князя Ивана,
хотя он туда так и не явился, жил в стане военном под стенами города, всего лишь два раза
въезжал в Новгород слушать обедню у св.
Софии и тут же, окруженный сильной охраной, спешил обратно; говорили, мора боится,
а может, были другие причины — кто знает?
Да только вскоре за тем самое страшное и случилось: срубили московиты вечевой колокол
новгородский в знак того, что отныне весь
Новгород и земли его — неотъемлемая часть
Великого Московского княжества, а потому не бывать больше обычаям старым да вольностям прежним, и даже пролетела молва, будто
хотят тот колокол в Москву увезти.
Услыхав это, некие лихие люди новгородские стали собираться тайком по ночам и заговор затеяли: как бы это спасти да спрятать
колокол: уедут проклятые, снова повесим —
не бывать в рабстве вольному городу! И вроде хорошо все задумали, и даже никто их не
предал, что было удивительно, ибо много
вокруг доброхотов2 московских вертелось, да
и среди самих новгородцев хватало думавших, что под Москвой им лучше жить станет; и не в том дело, что стража у колокола
стояла — стражу-то пьяную они легко сняли,
четверых на месте уложив, — да вот примерз
громадный колокол и тяжел был неимоверно,
а пока разогревали-оттаивали, только на сани
грузить стали — эх, досада, не повезло! — сани подломились, в общем, не рассчитали, не
управились заговорщики — набежали ратные
люди московские, всех до единого похватали
да и казнили тут же, без долгого суда; прямо
на Волхове-реке рубили их вместе с женами
да детьми малыми и в проруби тела кидали,
так что лед потом красный до самой весны
стоял и торчали из него там и тут вмерзшие
тела и отрубленные головы.
Однако сопротивление все еще таилось
в душе новгородской, и оставалось несколько
дворов, куда даже ратники Великого князя
входить не решались; не было им на то прямого указа, а сами робели, потому что вооруженные до зубов люди дворы эти охраняли
днем и ночью, московитов боялись не очень,
грубили даже и вели себя дерзко, а особенно
отличались в этом слуги купеческого старосты Марка Панфильева, чей двор стал похож
на добрую крепость, готовую к долгой осаде.
К тому времени владыка новгородский архиепископ Феофил со всеми боярами, детьми
боярскими да именитыми жителями уже подписал грамоту о том, что
«…князь Великий Иван Васильевич ВСЕЯ
РУСИ отчину свою Великий Новгород
ПРИВЕЛ В СВОЮ ВОЛЮ И УЧИНИЛСЯ
НА НЕЙ ГОСУДАРЕМ…»,
причем грамота тут же была отправлена в Москву и, казалось, дело благополучно завершилось, но Иван Васильевич, должно быть, так
не счи тал, потому что за несколько дней до
возвращения в столицу вдруг повелел: изъять
и увезти все договоры, когда-либо заключенные новгородцами с литовскими князьями,
главных сторонников Великого Литовского
княжества (а, стало быть, московских противников) схватить и в Москву силой доставить,
а все имение их отписать на себя, то бишь в великокняжескую казну. Имение, между
прочим, было весьма немалое, учитывая, что
речь шла о людях знатных и очень богатых,
а длинный список из трехсот фамилий возглавляли известная защитница прав и вольностей новгородских боярыня Марфа Борецкая, внук ее Василий Федоров, староста купеческий Марк Панфильев да еще пять самых
состоятельных в городе лиц.
Как обычно, в таких важных случаях волю
государя стал немедля приводить в исполнение Иван Юрьевич Патрикеев, князь, боярин,
большой наместник, наивысший воевода московский и, к слову сказать, двоюродный брат
Великого князя Ивана Васильевича.
Князь Иван Юрьевич прибыл в Новгород
пятнадцатого января и, круто взявшись за дело, ровно за месяц успел привести его к покорности: сторонников Москвы умеренно пожаловал, противников жестоко казнил, порядок
в городе навел, грабежи и злодейства пресек,
причем без особых потерь в московской рати,
да и то сказать, не от стычек с новгородцами,
а от мора и лютых морозов больше погибло,
в чем, конечно, виноваты бездарные полковые воеводы, хотя сто раз им говорено было:
«Оденьте новичков! Они ведь свежего набора
с южных степей и донских засек, привыкли
к теплу», — так нет же! — пару сот раздетых
молокососов зря положили, болваны, недоумки, головы бы всем порубить!..
К вечеру в пятницу донесли, что дело вроде бы слажено, воля Великого князя в главном
исполнена, хотя и возникли небольшие трудности, которые, впрочем, почти преодолены,
ну, короче говоря, так: все поименованные
в списке враги схвачены, имущество их описано, великокняжеским казначеям передано,
а вот что касается купеческого старосты Марка Панфильева, то тут…
Иван Юрьевич сильно осерчал, велел немедля подавать шубу да сани и поехал сам поглядеть, что там творится, ругая последними
словами болвана сотника с какой-то деревянной фамилией, которому еще утром было поручено взять Панфильева и который теперь
через гонца просил не много, не мало, а всего
лишь пушку, чтобы, дескать, разом с гнездом
вражьим покончить, а то, мол, сопротивление
оказывают жестокое и уже дюжина наших полегла… Нет, ну надо же до такого додуматься?! — в городе из пушки по купеческому дому палить, чтоб потом новгородцы веками
байки рассказывали о том, как московиты
целым войском один двор взять не могли! Да
и не подумал, дурак: а ну, грешным делом,
сгорит домишко — кто тогда за добро старосты перед Великим князем ответ держать будет — ведь нынче это уже наше, московское,
казенное имение!
Тем временем сотник московского сторожевого полка Иван Дубина потерял уже пятнадцать человек убитыми, в том числе двух
десятских, лучших из пяти оставшихся. Сотня и так уже давно не сотня, еще когда в поход двинулись, всего неполных восемь десятков было, да тут после Рождества Христова
моровое поветрие дюжины две разом скосило — у других меньше, в иных сотнях вообще
потерь нет, а у него вон как вышло. Да и что
дивиться — одни новички с южных степей,
к зимним походам непривычные; а ведь насильно ему всучили весь этот сброд — никак,
нарочно подвели под монастырь, небось избавиться хотят, кому-то, видать, не угодил…
Теперь вот еще пятнадцать рядком под забором лежат, вытянулись, закоченели, снежком
припорошен ные, да раненых полторы дюжины — кому воевать-то? А дом все не взят…
Правда, людей панфильевских тоже десятка
два побитых во дворе валяются, кой-какие
еще шевелятся, стонут, кровь дымится на морозе — ничего, помрут скоро не от ран, так
от стужи — помочь-то им некому, уцелевшие
в дом отступили, а выйти не могут: ворота порушены и наши через пролом стрелы мечут,
благо близко, без промаха…
Плохо, однако, что сами шагу во двор ступить не могут, ибо и те недурно пристрелялись, кроме луков у них еще пищали из окон да
бойниц палят — и как тут сладишь?!. Не сдается староста окаянный, видно, насмерть стоять решил… Не-ет, пушку сюда надо, только пушку!.. А тут еще раненый во дворе воет
жутко — да пристрелите же его кто-нибудь,
чтоб сам не мучился и других не изводил!
Матерь Божья, пресвятая Богородица, помоги
нам взять этот проклятый дом!..
Пока сотник Дубина отчаянно метался от
пролома в воротах к укрытию за опрокинутыми санями, хрипло матерясь, простуженно
кашляя и постоянно вытирая рукавом красный отмороженный нос, — а из него непрерывно текло, отчего усы превратились в твердый ледяной нарост, — десятский левого края
Василий Медведев спокойно сидел на снегу
чуть поодаль, прислонившись к могучей сосне, и размышлял, не обращая внимания на
неприятельские стрелы со двора, которые
время от времени с глухим стуком впивались
в промерзший ствол дерева за его спиной.
А поразмыслить было над чем.
Уже давно, еще после второй неудачной
попытки взятия приступом панфильевского
двора, Медведев понял: здесь что-то не так.
Воины купеческого старосты вовсе не походили на захмелевших от меда и крови
удальцов, упрямо решивших стоять до конца
и биться насмерть. Не было в них ни бешеной,
отчаянной ярости загнанных в тупик смертников, которые ни о чем не думают, ни жуткой холодной отваги безумцев, которые в душе уже простились с этим миром и теперь думают лишь о том, как бы утащить за собой
на тот свет побольше врагов. |




