ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Нравственно-духовные афоризмы
Предмет сочинения
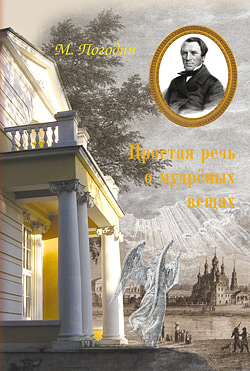 Прежде всего я передам написанные мною в разное время приступы или начала без концов и укажу на случаи, которые производили во мне особенное впечатление и напоминали о задуманном деле, присоединяя по местам новые замечания, которые вспадают на ум... Прежде всего я передам написанные мною в разное время приступы или начала без концов и укажу на случаи, которые производили во мне особенное впечатление и напоминали о задуманном деле, присоединяя по местам новые замечания, которые вспадают на ум...
Происхождение
Случилось мне однажды возвращаться домой поздно вечером по пустынному Девичьему полю. Полный месяц катился прямо пред моими глазами, пробиваясь сквозь тучи легких, тонких облаков! Вот он, кажется, падает, сей час упадет, сорвется... ну если... в забытьи становилось страшно.... Нет, он не сорвется, не упадет! Тысячи лет уже он совершает свой путь по одной и той же линии, не уклоняясь от нее ни на волос, — и все эти мириады звезд, которых быстротечный свет достигает до нас, веками носятся в своих безграничных пространствах, не мешая одна другой, не забегая ни на единую черту в чужую орбиту. Кто же указал им их пути? Что держит их на весу? Где, в чьих руках, этот камертон, по которому они движутся тысячелетия без малейшей ошибки, в гармонии, слышанной для Платонов?
Миры держатся силою притяжения — нашел славный Ньютон великую научную истину. А притяжение-то кто сообщил им? Да и что такое притяжение, что в нем есть? Сила, дух, идея?
А мы, муравьи, копаемся в своих кучках, топыримся и мечтаем, что значим что-то в этой безграничной вселенной.
Но мы, в самом деле, значим что-то в сравнении с настоящими муравьями, как и муравьи — гиганты в сравнении с инфузориями (наливчатыми, микроскопическими животными, у которых есть, однако ж, свои сложные организмы)...
Опыты вступлений и случаи
Однажды, в средине Кавказа, перед Сурамским перевалом, ночью, в ожидании лошадей на станции, среди тишины тишайшей, невозмутимой, я смотрел на синее, великолепное небо, расстилавшееся необозримым шатром над моей головою, усыпанное яркими, сверкающими звездами. Мне слышалось, что оно как будто пело... гармония ощущалась в душе, — и были для меня понятными слова боговдохновенного пророка, что небеса поведают славу Божию...
Сгорел огромный балаган на масленице, перед Зимним дворцом; несколько сот человек погибло, и могущественнейший в Европе Государь со средствами столичной полиции, с силами всей гвардии, на берегу реки, среди широкой площади не мог подать помощи ни одному несчастному, не мог спасти ни одной жизни, и должен был слышать стоны людей, погибавших в страшных мучениях. Как это могло случиться?.. Что значит сила человеческая?..
Вскоре после этого плачевного происшествия, на одной почти неделе, сгорела биржа в Лондоне, опера в Париже и Зимний дворец в Петербурге. Три главные города в Европе лишились в одно время своих славных памятников, на коих сосредотачиваются их заветные, задушевные чувства, — для француза зрелища, для англичанина деньги, для русского царская идея. Отстроить дворец к следующему году, сказал Император Николай Павлович: англичане скинулись по гинее, французы устроили заем, — и пожара как не бывало! Суетное, легкомысленное племя! Ты не видишь здесь страшных знаний, ты не понимаешь этих горных напоминаний — подумать о том, о чем ты думать отвыкло: так ли ты живешь, как тебе жить надо? То ли делаешь, что тебе делать надо!..
Покушение на жизнь Государя 4-го апреля в Петербурге, внезапная кончина Наследника, вырванного как будто из среды семейства в глазах у всех окружающих, покушение Березовского на жизнь Государя в Париже поразило меня сильно...
Удивительные события нашего времени столь же мало обращают на себя внимание ослепленного поколения: Париж, город, который полторы тысячи лет возвеличивался постоянно и сделался действительно столицею мира, — где наука, искусство, промышленность достигли высокой степени совершенства, где на всяком шагу поражали путешественника обилие, богатство, роскошь, соединенные с особенным изяществом, утонченностью, любезностью, — город, которому все страны света спешили приносить свою дань, где можно было, кажется, найти птичье молоко, — этот Париж в один месяц очутился в такой нужде, что крысы и кошки были ему всласть! Неужели это не чудо?
И сама Франция, передовое могущественнейшее государство в Европе — улыбнется, бывало, Наполеон какому-нибудь посланнику на поздравлении в день Нового года, или взглянет косо на другого, и во всех газетах, во всех кабинетах поднимутся толки, конца не было догадкам, спорам, предположениям! — Франция, считающая сорок миллионов своего народа — и какого народа? талантливого, пылкого, самолюбивого в высшей степени, на все способного, храбрейшего, — поражена так в два-три месяца, что из первого класса ниспадает на эту пору не во второй, не в третий, а разве, говоря по-нашему, в четырнадцатый. Три армии, по двести тысяч каждая, сдаются в плен неприятелю, чего не случалось никогда во всеобщей истории. Треть всей страны разорена, опустошена, выжжена; тысячи народа без хлеба, без пристанища, должны ходить по миру; все дела остановились. Наконец в крайности заключен мир самый унизительный: богатые, преданные до самоотвержения провинции отняты: враги остались хозяйничать на неопределенное время; наложена странная неслыханная контрибуция в пять миллиардов, которых, говорят, во всей Европе мудрено собрать вдруг наличными деньгами. Неужели это можно объяснить самонадеянностью Наполеона, легкомыслием Граммона, оплошностью Лебефа? Те же люди были около Наполеона в продолжение 18 лет, — и побеждали и властвовали! Судьба их была тесно связана с его судьбой; каким образом могли они, не спросив броду, сунуться в воду, и поставить на карту свою будущность? На всех нашло затмение! В том-то и дело, что на всех нашло затмение! Не даром ведь говорят: кого хочет наказать Бог, у того отнимает ум, dementat. — Казалось, испита была вся чаша горечи, которая может достаться в наказание государству, народу; — нет, это было только начало «болезнем». На дне чаши оставалась еще желчь — и французы, которые
не имели силы бороться с врагами, нашли силу воевать между собою, и вот три месяца они дерутся не на живот, а на смерть. Война объявлена не только настоящему порядку вещей, но и прошедшему с которым разрывается всякая связь, и все исторические памятники разрушаются с каким-то остервенением и вместе с наслаждением. Тюильри сожжен дотла, Люксембургский дворец в развалинах, Лувра, с его сокровищами, едва осталась третья часть. Вчера получено известие, что горит Ратуша, Префектура полиции, Ломбард. О статуях Генриха IV и Людовика XIV и говорить нечего. Наконец Вандомская колонна, гигантский памятник всесветных побед, которыми так любили хвалиться французы, обложенная навозом, попалена усилиями механики, вдоль улицы Мира, rue de la Paix, — (какая странная ирония!), — у героя, стоявшего на высоте ее, в порфире и лавровом венце, отлетает голова, и туловище раскалывается на двое при неистовых рукоплесканиях толпы. Кости его, из почетной гробницы Дома инвалидов, хотят бросить в могилу подлого, презренного убийцы. Какие поразительные явления, знамения, и вместе уроки для современников, для всех, имеющих очи видети и уши слышати!..
Когда вышла Штраусова книга о жизни Иисуса Христа, — прочитал первую главу, где автор, разбирая явление Ангела в алтаре Захарии, отцу Иоанна Крестителя, прикладывает к этому сказанию Шлецерову буквенную, щепетильную критику летописных сказаний: с которой стороны явился ангел, мог ли увидеть его народ, стоявший вне алтаря и проч., и начал было писать письмо: Вы не верите чудесам, так зачем же вы принимаетесь рассуждать об Евангельских чудесах? Вы не признаете бытия ангелов, так зачем же толковать, с какой стороны невозможный ангел мог быть виден, или слышан, народу?..
Вы не признаете чудес, но вы сами, человек, разве не чудо? Откуда вы взялись, как в капле семени зародились ваш ум, совесть, воля? И вот вы написали книгу... Как происходили ваши мысли, как они находили себе выражения?..
В 1856 году, из Геильброна я ездил нарочно к Юстину Кернеру расспросить о явлениях, рассказанных им в die Seherin von Prevorst, передать ему известные мне случаи, свидетельствующие о явлениях и силах мира невидимого, и после начать о них речь, но не нашел его дома: он отъехал накануне именно туда, откуда я выехал для его посещения (в Вильдбад, в Вюртембергском королевстве)… и намерение мое не исполнилось.
Лет двадцать тому назад, услышав мельком об образовании в Университете между студентами общества для распространения новейших попыток материализма, я начал к ним послание. Пишу, не знаю к кому, и лишь зная о чем. До слуха моего в уединенной келье дошли известия о каких-то отрицательных сочинениях религиозного и политического содержания, кои ходят по рукам между студентами, переводятся ими и сообщаются друг от друга. Преданный Университету, к которому принадлежал сам, от всей души любя студентов, между которыми находится теперь мой сын, я решился сказать несколько слов молодым друзьям, хотя и неизвестным.
В последнее время судьба кинула меня на поприще вопросов общественных: не обинуясь, говорил я искренно свое мнение о современных, опасных для нас обстоятельствах, несмотря ни на какие лица; не обинуясь, скажу и теперь вам, что не менее опасно, — хоть и в другом отношении — о взятом вами направлении. Предмет этот слишком важен, но, к сожалению, он все еще не занимает подобающего ему места в системе государственного управления. Принимая его к сердцу, я боюсь, чтоб другие осведомленные, не разумея дела, не принялись говорить с вами иначе, т.е. действовать по-своему, и не принесли б вреда вместо пользы, чтобы не возрастили зла вместо его искоренения.
Прежде всего я похвалю ваше стремление к истине: Блажени алчущии правды, яко тии насытятся, сказал Тот, кого надо бы нам спрашивать и слушать чаще, читая Евангелие.
Ваш возраст самый опасный: ум ступает в права свои, кровь кипит, сердце волнуется, страсти зарождаются, вопросы встречаются на каждом шагу: как, почему, зачем, на что? Обыкновенные ответы неудовлетворительны, и вот для юных искателей.
Сомненья тучей обложилось
Священной истины чело.
Чистое сердце ваше оскорбляется ежедневными явлениями зла. Кажется, все не так, все должно быть переменно, и как легко сделать все это!
И вот являются, может быть, благонамеренные, но ограниченные учителя, руководители, или отчаянные, неизлечимые мечтатели. Они обещают все, и давно уже обещали все их прародители, но разберите, что же исполнилось из их обещаний?
Куда пришла Франция после всех кровавых опытов с 1789 года?
А сколько было там умных людей! Какие таланты! Были истинные гении по всем путям человеческой жизни! Сколько книг написано, одна другой лучше, читаешь их с увлечением, восторгом, и какие же плоды?
Нынешние эмигранты сулят, если отдать им в руки управление, такую республику, от которой с ужасом отворачиваются самые либеральные граждане, и хватаются за железную руку Людовика Бонапарта, надеясь в той найти опору.
Эти эмигранты имели власть в своих руках, что же они сделали? Они могли говорить в своей палате все, что им было угодно, что же они сказали?
Если б было у кого из них слово-дело ясное, простое, способное осчастливить гражданское общество, или, по крайней мере, помочь добру и помешать злу, слово, оно заставило бы сердце биться у всякого образованно мыслящего человека на обоих полушариях, нашло бы везде себе много друзей, явных и тайных, не менее сильных исполнителей; но нет, не было такого слова_дела, да и нет его...
Не нашли его все глубокомысленные философы Франкфуртского сейма, которые столько времени посвятили на рассуждение об основных правах гражданина, Grund-rechte.
Не сказали его ни Маццини, ни Герцен.
Луи Блан с работниками в Луксембурге, рассуждая о droit du travail (Право на труд (франц.) — Прим. ред. ), представил смешное зрелище, — одно пустозвонство!
Хороши проповеди и отца Анфантена в Египте.
Читаешь Жорж-Санда, Прудона, — прекрасно, красноречиво, трогательно, и вздохнешь, и задумаешься, и улыбнешься, но в конце концов опять спросишь: да что же это все? Если и не то, что общие места, а умные вещи, но без приложения: ничего с ними не поделаешь!
Вспомните известие о смерти Кабе в Икарии, о тех явлениях, коими отравлены были последние его дни в основанных им фаланстениях.
Вот Коссидьер так благоразумно поступил, открыв винный погребок в Лондоне.
Немногому путному в этом отношении научает нас и Америка со свободой, часто необузданной. Живут американцы вольнее, но счастливее ли? Их братоубийственная война представляет страшное зрелище даже для Старого света, который прожил подольше Нового и видел много всякого зла на своем веку.
Болезни, язвы, раны, злоупотребления общества увидеть, описать легко и плакать над ними также. Во все времена являлись добрые сострадательные люди и писатели, которые живо чувствовали их, принимали к сердцу и описывали красно и трогательно. Почитайте хоть одного Руссо: — но лекарства-то какие и кем найдены и указаны? Чирья вырезаются, по верной, хотя и неблагозвучной русской пословице, а болячки вставляются. Такова история многих преобразований вроде нашей замены откупной системы акцизною, с которою народ питается донельзя.
Другие преобразователи не только жаловались, но брались исправить и начинали с истребления, что же вышло?
Посмотрите на портреты так называемых передовых деятелей нашего времени, начерченные мастерскою кистью Герцена. А их приверженцы и последователи — что за лица? Какие задатки для спасения народов от этого озлобленного отребья? Герцен оказал великую услугу, познакомив нас с этими героями.
Поляки просто жалки! Какая путаница, какой ералаш! Сами не знают, чего хотят, а рвутся, очертя голову, напропалую. Никакая победа не пошла бы впрок таким политическим ветрогонам.
Что же сказать о наших выходцах и эмигрантах! Они могут писать все: что же они пишут для нас, делают и говорят?
Нетерпение похвально в своем основании, но бывает пагубно в своих приложениях. Старайтесь исправлять себя, делаться в среду лучше, чем были во вторник, как учил Карамзин! А кто из нас может сказать даже, что в среду не стал он хуже, чем был во вторник? Мы хотим все учить других, кроем чужую кровлю, возделываем чужое поле, а свое, глядишь, покрывается тернием и волчцами и мы поступаем сами в число больных, иногда отчаянных, вместо того, чтобы делаться лекарями, как бы нам хотелось или мечталось.
Выходит ежегодно из наших Университетов чуть ли не тысяча студентов, оканчивающих курс, — (а сколько уже вышло их со времени основания Университетов!) — что если бы из этой тысячи хоть одна сотня начинала действовать так, как вы теперь требуете, положим, от правительства, от общества, но, спрашиваю я вас, скажите, положа руку на сердце: — бывает ли так, и не начинает ли эта сотня, с, немногими исключениями, через год, через два, через пять лет, выть с волками по-волчьи, а потом и превращаться в волков.., образованных, патентованных, и тем более опасных и вредных?
Подумайте-ка об этом, друзья мои, вместо занятий дрянными переводами книг, которые выросли не на нашей почве и так пристали к русским студентам, как к корове седло.
Если б 14 декабря триста человек, из которых большая часть, судя по свидетельствам, были люди истинно благонамеренные, чистые, любившие отечество искренно, умные, способные, избрали себе, взявшись рука за руку, другой образ действий, и нейдя на площадь, поступили бы в канцелярии, департаменты, на службу с благими своими намерениями, из них через немного лет ведь вышло бы двадцать, тридцать губернаторов, министров, членов Государственного Совета, и какое поприще открылось бы для их действий, сколько добра могли бы они сделать. Это было бы такое общество, каких желать можно. Далеко бы мы ушли... Мир их праху! Помяни их Господи во Царствии Твоем!
Точно то же должно сказать и об их преемниках, которые, хотя все мельче и мельче, слабее и слабее, продолжаются одни за другими — так или иначе и погибают бесследно...
Что же делать нам, спросите вы? Сидеть, склавши руки? Сидеть, склавши руки, все-таки лучше, чем махать ими без толку и тратить силу попусту. Но есть занятия пополезнее: учиться, учиться и учиться, не мудрствуя лукаво! Друзья мои! Друзья мои! За работу, за работу! За ученье!
Нет в мире царства, столь пространна,
Где б можно было столь добра творить.
На всяком месте можно у нас сделать много, много добра: учитель, исправник, лекарь, священник, староста, офицер, смотритель, не говоря уже о высших должностях, — а как исправляется большая часть этих должностей? И все вследствие недостатка в истинном образовании.
Учись и делай каждый свое дело!..
Я становлюсь на точку Карамзина, но… какие же точки тверже, особенно в наше время?..
* * *
Явились сочинения Герцена за границей. Пока он был дома и писал в Отечественных записках, в Современнике, я считал его одною из тех жалких посредственностей, которые вырастают у нас ежегодно по журналам, как грибы после дождя, с охотой смертною и участью горькою.
Помню, как однажды в профессорской комнате Перевощиков указал нам описание средних веков, предложенное Герценом в какой-то статье О. З., и как мы все хохотали над ним, стараясь представить их положение по данному Герценом чертежу...
Но когда чрез несколько лет я познакомился с его сочинениями за границей и увидел, что он вырос до высоты, для всех его товарищей недосягаемой, явил силу слова, до него неизвестную, сообщил наблюдения, мысли, каких никому в голову не приходило, образовал свой род сочинения, занял высокое место в европейской литературе силою таланта необыкновенного.
Между тем он шел по пути разрушения, по пути, иже вводя в пагубу; он судил об основах общества легкомысленно, относился к религии более чем легкомысленно; дерзко шутил с огнем и, не ограничиваясь собою, пытался распространить свой образ мыслей, старался о пропаганде.
Мне жаль было, что такой необыкновенный талант в одном отношении пропадает для отечества, а в другом приносит вред вместо пользы.
По ходу его мыслей я увидел впоследствии, что он начал склоняться на правую сторону.
Я был уверен, что Герцен находится в процессе развития, что он не останется на теперешнем своем месте, и что ему предлежит еще много метаморфоз.
Обращение его сделалось моим искренним, горячим желанием, потому что я чуял в его брани, в его хуле, в его увлечениях, в его заблуждениях, среди его отчаянных парадоксов звуки теплой любви к отечеству и доказательства ума, таланта сильного.
Несколько раз пытался я писать к нему, при разных замечательных у нас событиях нынешнего царствования, письмо и начать этим письмом задуманную речь. Мне хотелось сообщить Герцену некоторые явления из мира невидимого, им отвергаемого, явления, подлинность которых не подлежит никакому сомнению. Но всякий раз что-нибудь мешало мне, письмо не выработывалось, и я оставлял намерение…
«...Вы принимаете весь мир, всю природу, человека со всеми его способностями, comme un fait accompli (Как свершившийся факт (франц.) — Прим. ред. )! Вам нет дела ни до начала ни до конца. Вы хотите разбирать только сущее, настоящее, не считая нужным заботиться о прочем. Это очень удобно и покойно. Шутка — вселенная un fait accompli (Свершившийся факт (франц.) — Прим. ред. )! Можно признать теперь соедините Молдавии и Валахии с князем Кузою, comme un fait accompli, да и то хочется спросить: почему согласилась Россия, от чего уступила Турция, что имели в виду Англия, Франция, и проч. и проч.? Движение звезд, действия ума человеческого, творения искусства, сияет солнце и оживотворяет природу, светит месяц, лист зеленый нарождается со всяким летом — все это faits accomplis (Свершившиеся факты (франц.) — Прим. ред.)! А когда оно началось, когда кончится, об этом нечего и думать...
Размышления об этих предметах, скажете, не приводят ни к каким результатам. А разве это не великий результат: убеждение к невозможности достичь каких-нибудь положительных результатов о всех высочайших вопросах? Не можете понять ничего, ну так сознайтесь в ограниченности человеческого разума, почувствуйте смирение, а у нас ведь господствует гордость, а у наших последователей спесь глупого мещанина во дворянстве!..
Назидательны последние, предсмертные размышления Герцена. Но он все еще оставался в прежнем безусловном неверии, и все еще носился в воздушных пространствах общего! Он все-таки думал, кажется, сочинить государство на свой лад, и старая закваска в нем не выдохлась. Грустно, что он упал на полдороге, и не дошел ни до какой пристани на земле...
А в каком омуте он погрязал и тонул, в какой атмосфере задыхался — и сколько времени! Надо было иметь крепкую голову, чтобы не очуметь и не свихнуться, а он выходил на прямую дорогу...
* * *
Наконец, вот один из первых моих приступов:
С чего начать мне простую речь о мудреных вещах? Совершенствование, просвещение — самая сладкая, любимая мечта моей юности! С каким восторгом представлял я себе то время, когда человек на лоне природы, в мире с самим собою, с своей совестью, со всем его окружающим, в кругу своего семейства будет наслаждаться жизнью, проводя ее в изысканиях тайн мироздания, тайн истории, в творениях мысли и чувства, поклоняясь Творцу духом и истиной! И я был уверен, что оно наступит! Содействовать приближению этого времени — какое счастье! Дайте мне хоть орангутанга, думал я в восторге, идя однажды с Дмитрием Веневитиновым и беседуя о золотом веке, и если я успею выдвинуть его на несколько шагов вперед на его пути, то я ни пожелаю ничего более. Это было в двадцатых годах. Текло время, занимался я Историею, и опыты жизни опровергали мечту о постепенном усовершенствовании людей, государств и народов. Нет, думал я, это оттого, что просвещение не полное, что одна часть возделывается на счет другой, — и писал о счастье в своих повестях, рассуждал в афоризмах, внушенных философиею Шеллинга.
Так ли я думаю теперь, спросят меня, после того, как я долго прожил, читал, думал, испытал, видел, слышал? Утвердился ли я в убеждениях своей молодости? Увы! Где это усовершенствование? Может быть — в лицах неделимых! Усовершенствована астрономия, физика, химия, философия — но не человек, еще менее род человеческий. Каин убил Авеля дубиною, а Шасно (Франция), Крун (Германия), Армстронг (Англия) валят людей тысячами из своих пушек и ружей...
Мы называем просвещенным человеком того, кто отличается познаниями, сочинениями в математике, словесности, богословии, имеет много сведений о тех или других предметах. Но великий Бакон является в жизни человеком низким, продажным, и подвергается суду верховного судилища, но Гегель умирает от несварения желудка, но Гете находит удовольствие в титуле тайного советника, по свидетельству Гумбольта, который, шутя, и сам признается в этом малодушии: и я это люблю, сказал он в Москве К.К. Яниш (после Павловой), советуя ей на пакете, передаваемом для Гете, прописать этот чин. Байрон кичился больше своим происхождением от Норманнских баронов, чем своею поэзией! Неужели это свидетельствует о большом влиянии умственного образования!
Между умом и сердцем такая же бездна, через которую нет моста, как прежде, как всегда, и если они соединяются иногда, то не наукою, а чем-то иным... наука, могущественная в своей сфере, имеет здесь влияние, но не решительное, условное…
Обращаюсь к тетради и передам теперь набросанные мысли и выражения, разделив их на группы по предметам.
|




