Санкт-Петербург.
Осень 1756 года.
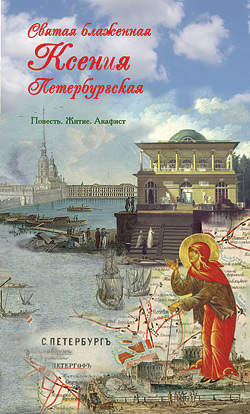 Город на сорока островах у холодного моря засыпал. Тёмные воды реки, распадавшейся
в низине на вены рукавов и каналов, вливались в невидимое, затаившееся где-то рядом море. Стелюящийся у земли осенний ветер летал по пустым улицам города, но не мог настигнуть людей, укрывшихся в домах. Однако люди всё же боялись ветра, потому что он мог принести самую страшную беду для города. Он мог приподнять холодные воды залива, и они, послушные его воле, презирая медлительность и немощь реки, двинулись бы, наступая на бедный, беззащитный перед морем город. Солёная вода, смешавшись с водами реки, как случалось не раз, залила бы улицы, пробралась в дома, с бездушной напористостью залила бы подвалы и, поднимаясь этаж за этажом, изгнала бы людей. Силой своей, не знающей пощады, могла бы даже совсем разрушить жилища, построенные слабыми человеческими руками. Город на сорока островах у холодного моря засыпал. Тёмные воды реки, распадавшейся
в низине на вены рукавов и каналов, вливались в невидимое, затаившееся где-то рядом море. Стелюящийся у земли осенний ветер летал по пустым улицам города, но не мог настигнуть людей, укрывшихся в домах. Однако люди всё же боялись ветра, потому что он мог принести самую страшную беду для города. Он мог приподнять холодные воды залива, и они, послушные его воле, презирая медлительность и немощь реки, двинулись бы, наступая на бедный, беззащитный перед морем город. Солёная вода, смешавшись с водами реки, как случалось не раз, залила бы улицы, пробралась в дома, с бездушной напористостью залила бы подвалы и, поднимаясь этаж за этажом, изгнала бы людей. Силой своей, не знающей пощады, могла бы даже совсем разрушить жилища, построенные слабыми человеческими руками.
Угроза моря и ветра, как проклятие, особенно остро нависала над приморским городом осенними ночами. Никому не дано было знать, когда могут подняться, наползти страшные воды, когда подкрадётся коварное море, чтоб доказать: болота и низины у берега его по праву, а люди здесь только гости.
Доктор открывал дверь с трудом, ветер дул, не уставая, не размениваясь на порывы. Дверь, словно упершись в воздушную стену, после секундной паузы с усилием прошла привычный поворот. Провожавшая доктора жена больного прикрыла ладонью заметавшийся огонёк свечи, поднесла её вплотную к двери, чем спасла огонь от ветра. Женщина и сама прильнула к двери поближе, защищая слабый, крохотный свет, лицо её оказалось ярко освещённым — измученное бессонницей нескольких дней, неестественно тёмное, с правильными, строгими чертами. Доктор не смог сразу заговорить, глядя в её большие глаза, светло-серые, чистые, переполненные тревогой. Пауза затягивалась.
— Плохой ветер, — сказал доктор, укутывая горло в шерстяной шарф.
Красивая женщина перевела взгляд со свечи на лицо доктора, немолодого обрусевшего немца, и заговорила неспешно, стараясь оставаться спокойной.
— Сейчас мы одни, скажите мне правду: чем ещё можно ему помочь? Он бредит, несколько дней не проходит жар, а эта сыпь... Никогда не видела такой. Мы сделали всё, что сказал доктор, приезжавший третьего дня, но Андрею Фёдоровичу не лучше...
Женщина покачнулась, огонёк в её руке рванулся вверх и потух. Одинокий масляный фонарь улицы, на которой стоял дом полковника Андрея Фёдоровича Петрова. Слабый свет фонаря не позволял жене полковника и доктору видеть лица друг друга. Доктор начал зябнуть от холодного ветра. Он уже много ночей почти не спал, эпидемия измучила город. Покосившись на свою пролётку под фонарём, он подумал, что несколько больных уже давно ждут его, так же мечутся в жару, как бедный полковник, и неизвестно, удастся ли застать их в живых. Там тоже убитые горем родные будут спрашивать его с надрывающей душу надеждой: что же это? Как же так? Что же это за болезнь такая? Выживет ли их близкий, любимый, дорогой человек?
Хорошо, что погасла свеча, теперь отвечать жене больного было легче, не стало видно её глаз, таких огромных, чистых, какие редко встречаются у людей.
— Мы можем только надеяться. Должен пройти кризис. Как только спадёт жар, наступит улучшение, — доктор старался говорить уверенно, твёрдо, но в конце, неожиданно для себя самого вдруг прибавил мгновенно потеплевшим голосом:— Крепитесь, моя дорогая.
Внутри дома в прихожей послышались быстрые шаги, потом к двери стал приближаться огонёк масляного светильника, из темноты в его свете появилась женская фигура.
— Ксения Григорьевна, вы же совсем раздеты. Возьмите хотя бы шаль.
Доктор заспешил.
— Прощайте, мне пора, — он почти побежал к ожидавшей его пролётке, не признаваясь себе, что невыносимо сейчас снова увидеть лицо провожавшей его женщины.
Ксения Григорьевна молчала, она не ответила ни спешившей к ней женщине, ни убегавшему от неё доктору. Она прижалась к открытой двери, выронила потухшую свечу и горько заплакала, стараясь из последних сил сдерживать рыдания, чтобы не услышали её плач в доме.
— Ксеньюшка, — подбежавшая домоправительница Прасковья Ивановна подхватила оседающую на крыльцо хозяйку, — родная, ну что ты, обойдётся, Андрей Фёдорович, даст Бог, обязательно выздоровеет, выдюжит. Он же у нас всегда здоров был, даже простуды у него не случалось. Не плачь, матушка. Не плачь...
— Не могу плакать у его постели, вдруг услышит... Ты, Прасковья, не беспокойся, я больше не буду... Я всё выдержу, пусть только выздоровеет... Душа он моя...
Женщины обнялись и медленно пошли внутрь дома, к спальне.
Большая чисто выбеленная комната была тускло освещена лампой, стоявшей на низком столике, заставленном отварами трав в чашах и разноцветными пузырьками с лекарствами. В углу мерцала лампадка у икон, располагавшихся на двух полках у самого потолка.
На широкой деревянной кровати, на огромной пуховой подушке, укрытый голубым стеганым одеялом, лежал хозяин дома — полковник Андрей Фёдорович Петров. Крепкое тело, до этого никогда не болевшего молодого мужчины, шутя переносившего любые ненастья и усталость, сейчас сотрясал озноб. Через потрескавшиеся, сухие, изуродованные лихорадкой губы с хрипом и свистом прорывался вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Иногда какая-то внутренняя боль сводила судорогами тело больного, бред)видения заставляли произносить слова, кричать и даже петь. Вот и в тот момент, когда Ксения Григорьевна вошла в спальню, больной вдруг сбросил одеяло, впился ногтями в простыню и с такой страстью потянул, поцарапал её, что на полотне остались полоски-следы.
Ксения Григорьевна метнулась к кровати, упала перед ней на колени, но больной уже успокоился, рука его мгновенно обмякла и отпустила простыню, жена прильнула губами к горячим пальцам, поправила одеяло. Потом она быстро и решительно поднялась на ноги, оперлась о резную спинку кровати.
— Ты иди, Прасковья, поспи. И не перечь мне, я сама с ним посижу. И ты иди, Маша, — обратилась она к кухарке, толстой тётушке, дремавшей у окна на стуле, — поспите. Если нужно будет, сразу позову, а сейчас уходите.
— Матушка, да как же мы оставим тебя одну,— Прасковья Ивановна попыталась уговорить хозяйку, — позволь нам хоть за дверью побыть.
— Нет, идите спать. Мне нужно остаться с ним, нет у меня сил говорить с тобой, Прасковья. Оставьте меня...
Испуганные Прасковья Ивановна и Маша не посмели больше спорить с хозяйкой.
Когда дверь за ними закрылась, Ксения Григорьевна села на стул рядом с постелью мужа. Взяла со столика чашку с отваром, маленькой ложечкой смочила им губы больного. Он жадно слизнул тёмные капли. Ксения Григорьевна осторожно, очень медленно напоила его из ложечки, боясь, чтобы он в забытьи не поперхнулся.
Постепенно Андрей Фёдорович немного успокоился. Свистящее дыхание стало тише, пылающий румянец щёк, алевших жаром, начал переходить в желтизну, на лбу у кромки волос выступили капли пота, наступило глубокое забытьё, беззвучное, без движений.
Ксения Григорьевна затаилась, боясь нарушить тишину, что наступила в комнате; только ветер на улице бросал что-то в стёкла окон — листья или капли дождя. Духота несколько дней не проветриваемой, сильно натопленной комнаты с острыми запахами лекарств, трав, немытого человеческого тела была почти невыносима, могла довести до дурноты, до полудрёмы. Переборов мгновенную слабость, Ксения Григорьевна тихонько поднялась, неслышно подошла к печке, потрогала горячие плитки изразцов. Она посмотрела на мужа. Отсюда, из угла комнаты, лицо Андрея Фёдоровича
показалось ей совсем жёлтым, восковым, как церковная свеча. К тому же страшная судорога вдруг исказила все его черты, свистящее дыхание вновь стало громким и прерывистым.
Ксения Григорьевна, посматривая на мужа, тихонько пошла к иконам. Она долго и пристально всматривалась в образа, потом медленно, безвольно осела перед ними на колени, склонившись в глубоком поклоне. Бросила быстрый взгляд на мужа и, перекрестившись, снова всмотрелась в лики Спасителя, Богородицы, Николая Чудотворца.
— Господи, если Тебе кто-то из нас нужен, возьми меня. Пресвятая Богородица, как награду я приняла любовь к Андрею Фёдоровичу. Когда уже не оставалось надежды мне, сироте, он дал
мне всё — дом, любовь.... И он стал для меня всем, каждый день я благодарила Тебя... Мы с ним венчаны воедино! Что, половина он моя?! Нет, Господи, он и есть вся я. Если он умирает, матушка Богородица, с ним умираю и я сама... Даруй, даруй нам жизнь! Он попросил бы сам, Ты знаешь, как крепка его вера, как искренни молитвы. Господи, помилуй, помилуй нас, грешных. — Ксения склонилась к самому полу, прижавшись лбом к холодным доскам, полежала, недвижимая, несколько минут и вновь встала на колени, пристально всмотревшись в иконы, словно изображения хранили тайный смысл, которого она не понимала.— Ты ведаешь, Господи, — голос её зазвучал спокойно, как в задушевном разговоре, — он так чист, как большой ребёнок. Не встречала я добрее человека, чем мой Андрей Фёдорович. Ты ведь знаешь, да? Сколько помогает он людям, как он умеет разделить горе каждого, как щедр с бедными. Он не ведает, что такое худое слово... Я чувствую, Ты хочешь забрать его у меня. Так он и так Твой, весь Твой. Погоди, Господи, позволь ему пожить ещё со мной. Или забери и меня. Господи, спаси его, молю Тебя, Ты всё можешь. Даруй чудо, исцели моего мужа! Возьми меня, меня! — Ксения испугалась, что криком помешала больному. Она прислушалась, но не услышала больше его хриплого дыхания.
Ксения, не подумав, что нужно подняться на ноги, на коленях подползла к кровати. Исступлённая молитва запоздала — Андрей Фёдорович больше не дышал, успокоилось его сильное, красивое тело, стёрлось с лица страдание — отпечаток болезни. Умиротворение и покой проявились в каждой морщинке и складочке. Ксения не мыслью, а каким)то неведомым ей доселе чувством поняла, что нужно закрыть покойному глаза, которые оказались широко открытыми. Она их закрыла, ничего при этом не ощутив, только его ресницы, нежные, слегка щекочущие пальцы, заставили её содрогнуться. Что-то, наверное, они напомнили, и дрожь, мелкая, до зубовного скрежета, прошла по её телу.
Трудно было остановить эту нервную дрожь. Ксения легла на ноги мужа, покрытые сшитым ею для приданого ярким голубым одеялом, и притихла, ожидая: что)то должно случиться и с ней самой... Когда она почувствовала сквозь ткань одеяла, что тепла живого человеческого тела под ней больше нет, а вместо него всё ощутимее проступает холод, слёзы полились из глаз. Нет, она не билась в рыданиях, слёзы сами по себе медленно стекали по щекам; плакало тело, а рассудок больше не ощущал
свалившееся горе.
Посветлели окна в спальне. Ксения этого не заметила, как не обратила внимания на Прасковью, тихо вошедшую в спальню и громко запричитавшую. Ксения не услышала её крика — испуга, ужаса, сочувствия и кто знает чего ещё. Прибежали кухарка Маша, истопник и дворник Илья. Ей что)то говорили, гладили её, пытались поднять. Лицо плачущей Прасковьи приблизилось к ней вплотную.
— Матушка, Ксения Григорьевна, что ж ты делаешь с собой? Почернела лицом, и седина... Ксенюшка, скажи что-нибудь, не молчи... Илья, беги за Фёдор Фёдорычем, скажи, что брат его
помер.
Прасковья с Машей сами не смогли расцепить рук Ксении Григорьевны, обнимавших тело мужа. Её руки будто окоченели вместе с остывшим телом. Покойника нужно было обмыть и переодеть, но Ксению Григорьевну, не сказавшую никому не слова, не могли вывести из оцепенения.
В доме уже суетились какие-то люди. Во всю готовились похороны. Все сокрушались, что умер Андрей Фёдорович без исповеди и последнего причастия. Брат покойного пытался уговорить Ксению Григорьевну, обещал поддержку всяческую. Наконец позвали священника, и только по его уговорам Ксения Григорьевна позволила увести себя из спальни.
Целый день в доме спешно готовились к похоронам, к вечеру в большой зале поставили гроб с телом хозяина. Покойный, красивый и молодой, казался живым, скоротечная болезнь не успела его изменить. Приглашённые из церкви дьяк и его помощник читали нараспев по очереди молитвы и должны были читать их всю наступающую ночь. Для поминок купили продукты. Три соседские кухарки, присланные в помощь, всю ночь собирались жарить, парить и печь — готовить поминальный стол.
В небольшой столовой, рядом с кухней, кухарка Маша накрыла ужин. Прасковья Ивановна, у которой с утра маковой росинки во рту не было, присела ненадолго перекусить. В столовую, придержав дверь, чтоб не грохнула, быстро вошёл Фёдор Фёдорович, вернувшийся с кладбища, где договаривался о могиле. Озябший, потёр замёрзшие пальцы, снял кафтан и бросил его в угол на лавку.
Прасковья Ивановна засуетилась.
— Фёдор Фёдорович, присядьте к столу. Вы ж с утра не ели. Пирожков поешьте или курочки. Кипяточку с малиновым вареньем. Не дай Бог, застудитесь.
Фёдор Фёдорович сел к столу, молча, не торопясь, начал есть всё, что подкладывала ему в миску Прасковья. Неспешно пережёвывая пирожок и запивая его из чашки горячим малиновым напитком, он спросил:
— Что Ксения Григорьевна? Выходила?
— Нет, — Прасковья всхлипнула, — лежит, сердечная, не говорит ни с кем, не спит. Как окаменела. Что теперь с нею будет?
— Да уж не дадим ей пропасть, — недоеденный пирожок лёг на стол, — дом этот её по праву, на приданое купил его брат. Полагается ей пансион как вдове придворного певчего. Сам регент хора, иеромонах Лаврентий, мне сегодня обещал. Регент сказал, что сама царица-матушка опечалилась. Андрей одним из лучших певчих в её хоре был, за то ведь и получил звание полковника. С самой царицей брат певал не раз, награды получал, подарки и деньги, — с гордостью прибавил Фёдор Фёдорович.
Прасковья Ивановна вздохнула.
— Не о доме я и не о пансионе. Как жить она теперь будет? Детей ей Бог не дал, совсем одна осталась. Сама-то я уже немолода, — она поправила под платком седеющие волосы, — и замужем никогда не была, но много семей перевидала. Только такой пары, как братец ваш с Ксенией Григорьевной, видеть не приходилось. Одно слово, душа в душу жили. Такого человека, как ваш брат, никогда не встречала. Не помню, чтоб голос повысил, всегда приветлив, ко всем добр, а Ксения, она же, ну право, ангел. Я, пока к ним не попала, думала, не бывает такой любви на свете... Казалось, один подумает, а другой уж знает мысли его. Так много любви в них было, что на людей вокруг её хватало. Всем рядом с ними было тепло.
Прасковья, не таясь, заплакала.
— Ничего, ничего, — Фёдор Фёдорович вновь взял недоеденный пирожок, доел его и долго выбирал на блюде кусок пирога с капустой, побольше и поподжаристей. — Мы не дадим ей пропасть. Она и вправду женщина особенная, душевная. Не дадим её в обиду. А брат мой, ты права Прасковья, хороший был человек. Такой с детства — незлобивый и жалостливый. Я на десять лет его старше, помню, как все его любили, и семья, и чужие люди, а уж какой голос дал ему Господь. Бывало, в церкви рыдали люди, когда он пел, прямо душу вынимал... Злой человек так бы петь не мог... И я его любил... — Фёдор Фёдорович вдруг неожиданно полностью изменился, куда-то пропала из его взгляда гордость, опустились плечи, стареющее лицо сразу увиделось по-настоящему старым, он зарыдал в ладони, даже не выпустив из рук недоеденный пирог, — горе-то, горе какое...
Прасковья Ивановна растерялась, засуетилась, подбежала к нему, но Фёдор Фёдорович уже взял себя в руки.
— Стой, погоди, — он остановил Прасковью, не дав прикоснуться к себе, отвёл её протянутые руки, — погоди, Прасковья Ивановна... Призвал его Господь, значит, такая у него судьба. Что плакать и убиваться, нужно жить. Все под Богом ходим, неизвестно, сколько нам отмерено.
— Да, Фёдор Фёдорович, правда. Все мы здесь гости, — Прасковья вновь вернулась на своё место. — Теперь похоронить его нужно достойно да вдову утешить.
Дверь из кухни приоткрылась, в щели появилась голова дворника Ильи.
— Фёд... Фёдорович, подвода пришла, для поминок посуда разная...
— Я сейчас, — Фёдор Фёдорович быстро оделся и ушёл вслед за дворником.
Утром следующего дня в доме начал собираться народ: родственники, соседи, просто знакомые и даже малознакомые люди, певчие придворного хора во главе с регентом иеромонахом Лаврентием. Все подходили к гробу, начиналось прощание с покойным. У гроба стоял брат усопшего Фёдор Фёдорович с женой и старшими детьми, каждый выражал ему своё соболезнование, про себя удивляясь, что у гроба нет вдовы. Людей набился полон дом, пришло время выносить покойного, священник в церкви Святого апостола Матфея уже заждался — всё было готово к отпеванию.
Однако Ксения Григорьевна не выходила из своей комнаты. Она заперлась на ключ и каждый раз на стук в дверь отвечала, что скоро выйдет. Нервничал Фёдор Фёдорович. После отпевания похоронная процессия должна была идти на Васильевский остров, где на Смоленском кладбище уже приготовили могилу. Кладбище хоть и было новое, без церкви, зато через недавно построенный мост через Малую Неву ближайшее от дома покойного Андрея Фёдоровича. Когда собравшиеся на похороны люди стали перешёптываться, подозревая Бог знает что, на пороге гостиной появилась вдова полковника.
В мгновение наступила полная тишина. Люди не могли поверить своим глазам, в удивлении, не стесняясь, рассматривали одежду Ксении Григорьевны. И было чему удивляться.
Ксения Григорьевна была в одежде покойного мужа. Невысокая, стройная вдова надела костюм, в который могла бы завернуться с головой. Рубаха, камзол, кафтан, штаны — она не забыла ничего, даже картуз надела на голову, спрятав в него косы. Ксения Григорьевна твёрдой, решительной походкой прошла в залу и стала у гроба, взявшись за его краешек рукой. Все молчали, кое)кто хотел было подойти к ней с соболезнованиями, но, остановленный её абсолютно сухим, строгим взглядом, отступил.
Покойного вынесли из дома, заплакали какие-то люди, рыдали Прасковья с Машей, только Ксения Григорьевна спокойно и безучастно вышла на улицу и пошла вслед за гробом, который поставили на телегу. Прохожие останавливались, с любопытством разглядывая, конечно, не похороны, которых в эпидемию было множество, а странно одетую в мужскую одежду молодую женщину.
В церкви священник, знавший давно Ксению Григорьевну, ничего не сказал, поглядев на её необычный наряд, только на глазах у него выступили слёзы.
Церковный хор запел печально и грустно, горе растворилось в молитвах, в запахе ладана, навсегда прощался человек с землёй, прощались с уходившим люди. Ни молодость, ни любовь не удержали человека на земле; плакали все, свои и чужие, обливая слезами горькое слово «смерть».
Только Ксения Григорьевна не плакала, не причитала, она даже чуть улыбалась, когда голоса певчих, отпевавших своего собрата, особенно вдохновенно взлетали под купол храма. Это была последняя музыка, которую они могли подарить одному из лучших певцов столичного города.
Ветер наконец утих. Город прятался за плотным туманом, сырым, покрывавшим лица людей росой. Дорога к кладбищу оказалась долгой. Дома от реки отступали вглубь островов — Городового и Васильевского, связанных новым мостом. Гавань у моста выдавала себя торчащими из тумана мачтами кораблей. Вода Малой Невы притекала издалека, из упавшего на реку облака, и, проскользнув под мостом, вновь исчезала в облаке.
Люди в похоронной процессии молчали, думая каждый о своём, не разглядывали больше Ксению Григорьевну. Она шла рядом с телегой, погружённая в свои мысли, и казалось, уже совсем не замечала окружающего мира.
Телега скрипела и подпрыгивала то на булыжниках мостовой, то на брусчатке. Ближе к кладбищу, на немощёной улице, она два раза застревала в грязи, её вытаскивали, боясь, чтобы не пришлось гроб дальше нести на руках, как здесь уже не раз случалось на других похоронах.
В доме покойного полковника Петрова давно был готов поминальный обед. Окоченели от холода могильщики, которым хотелось побыстрее получить деньги и разойтись по домам. Поэтому затягивать прощание у могилы не стали, подвели Ксению Григорьевну к гробу, она не спеша, внимательно всмотрелась в последний раз в лицо Андрея Фёдоровича, поцеловала его в лоб и тут же отошла в сторону. Гроб быстро заколотили и уже через несколько минут на холмике могилы поставили временный деревянный крест.
Ксения Григорьевна посмотрела на крест и, обведя взглядом лица людей, спокойно и печально сказала:
— Вот и всё, похоронила я мою Ксеньюшку. Теперь Андрей Фёдорович совсем один остался...
Люди в испуге отступили от вдовы, и только Прасковья плача подошла к хозяйке, а та продолжала:
— Молитесь о душе усопшей рыбы Божией Ксении. Прасковья, — Ксения взяла за руку
домоправительницу, — закажи заупокойную службу по новопреставленной Ксении.
Прасковья залилась слезами, а Ксения Григорьевна стала подходить к каждому человеку, стоявшему у могилы.
— Молитесь, люди добрые, за упокой души рабы Божией Ксении, — потом, на несколько секунд задумавшись, она вдруг сказала с умилением: — Вы думаете, Андрей Фёдорович умер? Нет, это умерла Ксения Григорьевна. Андрей Фёдорович жив и будет теперь долго жить. Он будет жить вечно!
Прасковья плача обняла Ксению Григорьевну.
— Ксеньюшка, матушка...
Но Ксения, вырвавшись из объятий, перебила её с обидой.
— Прасковья Ивановна, зачем ты беспокоишь имя покойницы. Умерла Ксения, нет её больше! Андрей Фёдорович жив! Здесь он, перед вами, — она положила себе руку на грудь и поклонилась. — Ты поплачь, Прасковья, поплачь. Жалко Андрея Фёдоровича, осиротел он, один остался на свете, бедный он, бедный...
На поминках Ксения Григорьевна не села со всеми за стол, а закрылась в своей комнате.
Поминающие много пили и хорошо закусывали, особенно пошли горяченькие поминальные блины. Вначале за столом было тихо, но потом разговор как)то разгорелся сам собой, становясь всё громче. И если вначале говорили всё больше о покойном, к концу трапезы уже вспоминали о делах семейных и о службе. Кто-то с кем-то познакомился, кто-то кого-то давно не видел. Плакал один сильно перепивший молодой певчий, его утешали, а он рыдал и говорил, что молодого полковника ему жаль и его жену, и его брата тоже, и жалко себя самого, и весь христианский мир. Его утешали и подливали ему ещё, уговаривая получше закусывать. Кухарки едва успевали подносить башни горячих масляных блинов, такой у поминающих был хороший аппетит после долгих похорон.
Прасковья Ивановна к концу обеда совсем утомилась, забегалась, да и шутка ли, чтоб каждый был доволен, никто не обижен, чтоб всем хватило закусок. Хорошо ещё, что Фёдор Фёдорович помогал ей, руководил застольем. Поминки закончились поздно вечером, последним отправили домой на извозчике уснувшего прямо за столом молодого певчего.
К следующему утру дом полностью убрали, ничего в нём, кроме завешенного чёрной тканью зеркала, не напоминало о случившемся горе. Ксения Григорьевна вышла из своей комнаты по-прежнему в одежде мужа, чем очень расстроила Прасковью Ивановну, которая надеялась, что хозяйка к утру придёт в себя и переоденется в женское платье.
— Прасковья, пойди к стряпчему, — попросила Ксения домоправительницу, — пусть приготовит дарственную. Дом я тебе подарю. Тебе жить негде, теперь это будет твой дом. Вещи раздам бедным, а деньги в церковь отнесу — пусть поминают рабу Божию Ксению.
— Что ты, матушка? Мне — дом? А сама-то где жить будешь? Это твой дом, не нужно никому дарить его, — испугалась Прасковья.
— Андрею Фёдоровичу теперь ничего не нужно. Бери дом, Прасковья. Живи здесь, только пообещай мне странников пускать бесплатно...
Собрав все деньги и дорогие вещи — золотую табакерку, серебряные подсвечники, стопки и ложки, украшенные эмалью, — Ксения Григорьевна поспешила в церковь. Как только она ушла из дома, Прасковья побежала к Фёдору Фёдоровичу.
Настоятель храма Святого апостола Матфея отец Лука, увидев Ксению, входившую в церковную ограду, поспешил к ней навстречу. С жалостью и сочувствием благословил её, даже погладил по голове.
— Крепись, сестрица. Не нужно впадать в уныние, грех это. Теперь Андрей Фёдорович
у Отца нашего небесного. Что ты так убиваешься? Терпи, моя хорошая. Нужно жить. Ты молода ещё.
— Возьмите, батюшка, это для церкви, — Ксения положила ему в руки завёрнутые в платок монеты и вещи.
Развернув платок, священник опешил.
— Сестрица, ты вдова теперь, зачем отдаёшь так много? На что сама-то будешь жить? Оставь себе хотя бы половину.
— Нет, батюшка, мне больше ничего не нужно. Андрей Фёдорович ни в чём сейчас не нуждается. Зачем ему деньги? Ты сам говоришь, Отец небесный даст ему всё, в чём будет нужда. А о душе Ксеньюшки молиться надо. Эти деньги на помин души новопреставленной Ксении, чтоб хорошо её поминали.
— Матушка, — у священника сами собой опустились руки, и он чуть не уронил дорогие подарки, — да как же я возьму всё это, как поминать живую душу?
— Да разве ж есть другие души? У живого Бога все мы живы: «...пойди, продай имение твоё и раздай нищим» — не так ли говорил Христос богатому юноше, желавшему спасти свою душу? Почему же, батюшка, ты не хочешь взять у меня эту безделицу? Я теперь точно знаю, что деньги, вещи дорогие мало значат для человеческой души. Поверьте Андрею Фёдоровичу, ничего они не стоят у Отца небесного. Поминайте Ксеньюшку, поминайте... — Ксения поклонилась, перекрестилась на купол храма и быстро ушла, оставив священника в полном смятении.
Хмурый, озабоченный Фёдор Фёдорович, с которым уже не раз успела поговорить Прасковья, постучал в дверь комнаты Ксении Григорьевны и решительно переступил порог.
— Здравствуй, сестра.
— Здравствуй, Фёдор Фёдорович, — Ксения медленно подняла глаза на вошедшего.
— Правду ли говорит Прасковья, что ты собралась ей дом подарить?
— Правду.
— Да как же так, сестра? Где ж ты сама жить будешь?
— Андрею Фёдоровичу теперь не нужен этот дом. Зачем он ему? Теперь пусто тут и холодно. Раньше здесь часто пели, и не было печали, а теперь всегда будет тишина и горе. Как умерла Ксеньюшка, Андрей Фёдорович в этом старом доме не нуждается, у него новое жилище. Сейчас весь мир его.
— Но... почему же Прасковье хочешь дарить дом? Чужому человеку? — пожал плечами Фёдор Фёдорович.
— Прасковья мне не чужая. Идти ей некуда. Сирота она в мире, как была Ксеньюшка.
— Ну ладно, дом хочешь отдать Прасковье, жить в нём не можешь, но вещи зачем раздаёшь? Знаю, любила ты брата, но жить-то надо дальше. Хочешь, квартиру тебе наймём? Или с нами живи. У меня дом большой, всем места хватит, и жена моя, и дети любят тебя.
— Благодарю тебя, братец, — Ксения улыбнулась, — за доброту. Только, прости, не приму я твою помощь. Не может Андрей Фёдорович жить, как все люди. Вечная жизнь — не земная. Ничего ему больше не нужно земного, будет он странствовать. Не беспокойся, Богу он теперь принадлежит. Бог как отец и позаботится о нём.
— Ксения Григорьевна, — у Фёдора Фёдоровича от волнения дрогнул голос, — пожалей ты меня, грешного. Не позорь меня, Христа ради! Как людям в глаза смотреть буду, если отпущу тебя на улицу нищенствовать? Как на том свете отвечу брату — почему не уберёг его любимую жену? Не позорь меня, сестра!
— Фёдор Фёдорович, — Ксения с нежностью и любовью погладила деверя по плечу,— не печалься, всё уже решилось. Не в твоей власти изменить то, что будет, и не в моей. Хочешь мне помочь, так помолись об усопшей рабе Божией Ксении. Это всё, что можно сделать для неё.
— Господи, — Фёдор Фёдорович схватился за голову, — что ты делаешь со мной, сестричка? Как грех такой оправдаю? Ксеньюшка, ты ведь не простого рода, грамоте с детства обучена, наукам разным, знаешь языки и рукоделия. Как же ты хочешь бросить привычный для тебя мир? Ты же погибнешь на улице! А вина будет на мне...
— О мирском ты думаешь, братец, — вздохнула Ксения, — о том, что давно минуло. Андрей Фёдорович со своей Ксеньюшкой были соединены венчанием воедино. Что соединил Господь на небе, то не должны разъединять люди — не так ли в Евангелии сказано? Никто не может разорвать между нами связь, «...оставит человек отца своего и мать. И прилепится к жене своей, и будут два одной плотью...». Мы с ним одна плоть, Фёдор, одна плоть... Это ты думаешь, что Андрей Фёдорович одинок, не понимаешь ты и не веришь, что не может он быть один. Потому что есть для него жизнь вечная.
— Ксения Григорьевна, прошу тебя, сейчас пообещай мне — не дарить дом, пока сорок дней не пройдёт... И ещё, регент хора иеромонах Лаврентий хотел поговорить с тобой, сходи к нему в келью, послушай, что он тебе скажет,— попросил Фёдор Фёдорович.
На следующее утро, впервые после многих дней туманов, небо над северным приморским городом посветлело, изредка даже проглядывало между облаками солнце. Солнечный свет веселил узкие грязные улочки бедных окраин, а роскошные проспекты центра города стали казаться прекрасными, сказочными. Поблескивала умиротворённая, неторопливая Нева, в её чистой воде отражались строгие дворцы, мрамор набережных, дуги мостов. Вода каналами и мелкими речками оплетала сорок островов, и непонятно было — улицы и парки опустились к воде или, наоборот, каналы и реки проникли в тело города.
У Невы гуляли люди, любуясь пригожим деньком и красотой столицы. На улицах было шумно, в тумане люди привыкали говорить шёпотом, а яркий весёлый свет оживил горожан. Особенно громко смеялись и кричали неугомонные дети, да и взрослые не могли отказать себе в удовольствии подыграть повеселевшей природе.
Ксения шла не спеша в Невский монастырь к регенту придворного хора. Вокруг неё шумели улицы. Горожане устали прятаться в домах, ветер отступил, больше не угрожало наводнение, эпидемия сходила на убыль — люди улыбались друг другу, даже незнакомые.
Город казался добрым и весёлым, Ксения с улыбкой рассматривала его. Когда она устала, то присела под деревом на набережной у моста. У неё стало так спокойно на душе, как раньше бывало, может, только во сне. Гул голосов, тихо убегающие мимо воды реки, увядающая осенняя трава под рукой, небо, где сквозь редкие тучи выглядывало неяркое предзимнее солнц, — всё растворилось в её душе, и она впервые почувствовала, что живёт теперь в городе, во всём этом городе и больше никогда не сможет спрятаться от него за каменными стенами домов. Мир словно вывернулся наизнанку,
и настоящим местом обитания её были теперь эти улицы, обставленные и украшенные домами, деревьями, рекой, а человеческие жилища казались невыносимо пугающими, способными похоронить человека в себе, в своих стенах, не пропускающих жизнь.
Подумалось Ксении, что наконец-то Андрей Фёдорович отпущен на свободу, ни обязанности, ни вещи, ни стыд или страх — ничто не удерживает его больше. Осталась только любовь, только чистая любовь. Ксения окончательно решила: последнее, что необходимо сделать, — избавиться от дома, отдать его Прасковье. И всё, новопреставленная Ксения окончательно уйдёт, исчезнет, останется только Андрей Фёдорович.
Длинная, узкая келья иеромонаха Лаврентия, с продолговатым нешироким окном, плохо её освещавшим, была зачем-то чересчур наполнена вещами. Книги и ноты на полках, свечи в коробках, несколько лампад на сундуке, рядом горкой посуда, чётки, полотенца, одежда и прочее, прочее. Вещи делали комнату земной, уютной. Сам монах Лаврентий мало отвечал представлениям людей о регентах: был он маленьким, толстеньким, очень шустрым человечком.
— Ксения Григорьевна, садитесь вот сюда, поближе к печке. Водички хотите? Пряничек у меня есть, угощайтесь! — засуетился он вокруг вошедшей в келью вдовы, усаживая её на лавку и улыбаясь ей как старой знакомой; на самом же деле видел её до этого момента, кроме похорон, только однажды.
— Не беспокойтесь, батюшка, мне удобно и не нужно ничего, — отказалась от воды и от пряника Ксения.
— Пансион вам назначен, Ксения Григорьевна, — монах Лаврентий сел на табурет у стола и принялся рыться в горе беспорядочно набросанных листков, тетрадей, книг. Наконец он нашёл то, что искал. — Вот, извольте посмотреть, — он протянул Ксении бумагу, — вам назначен пожизненный пансион как вдове придворного певчего. Обещаю вам, матушка, также мою всяческую поддержку. Очень мы дорожили вашим мужем, прекрасный был человек, — на глазах регента выступили искренние слёзы. — Мы с вами вместе оплакиваем его.
— За хлопоты благодарю покорно, только не приму я деньги.
— Как не примете? — регент опустил бумагу, устав держать её на весу, в протянутой руке.— Пансион ваш по праву. Нет причин отказываться от него. Вам жить на что)то нужно. Берите, берите, — он снова протянул документ.
— Пойду я, пожалуй, — Ксения встала с лавки и направилась к двери, — благодарю вас за хлопоты, за доброту. Прощайте.
— Погодите, Ксения Григорьевна, постойте,— регент быстро встал и преградил гостье дорогу, став у двери. — Берите деньги! И не спорьте со мной! Сейчас от денег откажетесь, потом сто раз пожалеете. Берите, раз вам положено!
— Нет-нет, никогда мне в них нужды не будет. Какую жизнь на них, думаете, могу я себе купить? Думаете, можно будет когда-нибудь хоть малость жизни на них выторговать для Ксении? Другими монетами идёт расчёт теперь у Андрея Фёдоровича. Уже роздано и то, что было, осталось только дом Прасковье подарить. Ничего не нужно Андрею Фёдоровичу, ничего; осталась одежда, — Ксения погладила на себе одежду мужа, — что тело прикрывает, остальное — лишнее.
— Здоровы ли вы, Ксения Григорьевна, — голос монаха зазвучал ласково и участливо. — Женщинам мужскую одежду носить не пристало. Нехорошо. Вы уж переоденьтесь, матушка... Послушайте меня, конечно, душа человеческая не нуждается в пище и доме, это понятно, но тело питать надо. Божьи угодники и те все люди были, пили, ели и в отдыхе нуждались. Ну, а мы-то грешные... Впасть в гордыню — искать для себя чрезмерные подвиги духовные. Грех на душу брать.
— Здорова я, батюшка, и на душе у меня покойно. Почему странным кажется помин души усопшего всем имением, что нажил он в человеческой жизни? Неужто душа меньше тела? Почему
особенным считается, если ценит человек душу, а от вещей и денег отказывается? Вы, батюшка, приняли постриг, из любви к Богу оставили многое. Ведь не за подвиг же вы жизнь свою почитаете?
— Нет, конечно, — поспешно согласился регент, — какой там подвиг, пусть простит мне Бог мои грехи тяжкие, — он перекрестился. — Только что ж вы вещи свои раздаёте? Фёдор Фёдорович, брат вашего мужа, волнуется, приходил ко мне вчера. Зачем жертвовать всё имущество и без копейки оставаться? Нужно и о себе позаботиться.
— Я, батюшка, ничем не жертвую. Жертвовать — от души отрывать, считать отдаваемое потерей. Я же раздаю ненужное и радуюсь, что помогаю кому-то. Бедный человек повеселится моему подарку, его радость — прибыль для меня, а не потеря. Какие вещи могут быть важнее света в душе через милостыню?
— Правда ваша — нет вещей важнее души,— со вздохом согласился монах. — Только и свою жизнь губить нам, христианам, не должно. Богом созданы мы для жизни.
— Он-то будет жить вечно, — регент начал терять терпение, — только и вы, Ксения Григорьевна, должны в достоинстве провести оставшиеся дни! Так что берите пансион, очень вас прошу!
— Не нужно так печалиться о Ксении, уходит человек к Господу своему, отмучился он на земле. Больше ничего страшного не может произойти с покойным, все земные испытания позади. Дальше только Господь Бог вершит посмертную судьбу новопреставленной души. Молитесь, батюшка регент, об усопшей рабе Божией Ксении. Молитесь о покойной и радуйтесь, что душа её у Создателя. — Ксения быстро проскользнула в дверь мимо монаха, оторопевшего после слова «усопшей».
Минули сорок дней, для Ксении они слились воедино, дни и ночи не отличались больше друг от друга, объединились в своём бессмыслии. Недолгий сон только отключал память, но не давал передышки, а сбивал с ног тяжёлой чёрной пустотой. В нём не было фантазий, лёгких видений — не было отдыха. Начало тёмного тоннеля и его конец — вот и всё тяжкое забытьё. Наконец время вышло, сорок дней, поминки. Ксения с лёгким сердцем подписала дарственную. Теперь дом принадлежал Прасковье.
Ксения вышла из дома, теперь уже чужого для неё, стараясь не оглядываться на плачущую на крыльце Прасковью, причитавшую:
— Матушка, это всегда будет твой дом, возвращайся, не бросай меня...
Ксения осмотрела улицу вокруг, словно пытаясь стереть в себе особое чувство, которое каждый раз всплывает в душе при взгляде на родной дом. Чувство, может быть, нежности. Теперь она старалась раз и навсегда зачеркнуть, забыть многократно испытанную радость, что мелькала когда-то при виде этих окон, этой двери. Исчезли, ушли в прошлое те удивительные слова: «Вот я и дома», — которые когда-то заставляли её любить это место больше всех других в мире. Дом переставал быть единственным, можно было уходить.
Она могла пойти вверх по улице или вниз, не осталось и выбора, было всё равно, куда идти. Срывавшийся мокрый снег и ветер кружили вокруг неё, больно, наотмашь били в лицо, слепили, но необходимость видеть, рассматривать окружающее тоже на какое)то время стала необязательной. Ксения легко согласилась бы стать незрячей.
Ксения уходила всё дальше от своего бывшего дома, с каждым шагом обрывая с ним связь, подумав, что, наверное, когда-нибудь она и вовсе не узнает его, забудет.
Большая Офицерская улица закончилась, нужно было поворачивать за угол, и тут вдруг Ксения остановилась. Мгновенная слабость, неожиданная и необъяснимая, заставила онеметь тело. Непонятная сила перехватила дыхание, невидимое кольцо охватило и сдавило горло. Воздух прерывисто, с трудом пробивался через сведённую судорогой гортань, словно резал сомкнутые ткани, вызывая острую боль. Задыхаясь, Ксения пыталась ухватиться за мысль: почему же ей так плохо? Почему она испытывает эту боль, почему её тело отказывается дышать? Где рождается эта мука, ведь нет страдания в её мыслях, в душе. Отчего же тело пытается убить её, откуда появилось что-то неподвластное ей в ней же самой? Из глаз потекли слёзы, и тогда удушье медленно отступило, дыхание постепенно вновь стало ровным. Но борьба с вырвавшимся на свободу телом отняла у Ксении так много
сил, что она совсем перестала ощущать окружающее. Кружилась от слабости голова, улица покачивалась перед глазами, и от не унимавшихся слёз, и от летящего в лицо снега дома вдоль улицы, булыжники мостовой, фонари потеряли строгость очертаний, законченность реальных предметов.
|




